Слушая Вечность (о звуковой семантике «Оды греческой вазе» Е. Подгайца)
RU | ENG
Москва, Россия, ydruzhkin@yandex.ru
Аннотация
Ключевые слова
Более четверти века звучит это произведение, пользуясь неизменным успехом, не будет преувеличением сказать – восторженным приемом. Но, вот парадокс! Лично мне неизвестно, чтобы какие-то еще исполнительские коллективы включили его в свой репертуар. Объяснение этому вижу лишь одно. Произведение это – очень сложное, для исполнения исключительно трудное. Трудность двоякая. Во-первых, чисто технологическая (интонационная, ритмическая...). Во-вторых, смысловая, концептуальная.
Детский хор «Весна» с этой двойной трудностью справляется. Он, хотя и детский, но обладает далеко не детской технологической оснащенностью. А еще, это умный хор. В его звуке, в его интонации всегда мы слышим, что хор хорошо понимает, о чем поет. В известной степени заслуга в этом принадлежит и композитору, чью музыку дети поют с первого класса, на ней формируются, привыкают к ее смыслам и стоящей за ней картине мира. Очень многие произведения Подгайца, написанные специально для этого хора, несут в себе глубокое философское содержание. Вот лишь некоторые примеры: «Как нарисовать птицу» – кантата для детского хора, сопрано и оркестра на стихи Ж. Превера, «Лунная свирель» – кантата-сказка для детского хора и инструментального ансамбля по сказке С. Козлова, «Черный омут» – опера-кантата для детского хора и симфонического оркестра по сказке С. Козлова, «Поэзия земли» – кантата для детского хоря и камерного оркестра. Подобных примеров значительно больше. К таковым, безусловно, относится и «Ода греческой вазе», о которой наш разговор.
Для начала приведем сам текст в том (сокращенном и отредактированном композитором) варианте, в котором он выступает в качестве поэтической составляющей хорового произведения.
О, строгая невеста тишины,
Дитя медлительных столетий,
Векам несешь ты свежесть старины,
Пленительней, чем строки эти.
О чем по кругу ты ведешь рассказ?
То смертных силуэты иль богов?
Откуда этот яростный экстаз?
Флейт и тимпанов отдаленны зов?
Пускай напевы слышные нежны,
Неслышные, они еще нежней;
Так не смолкайте, флейты! вы вольны
Владеть душой послушливой моей.
И песню — ни прервать, ни приглушить;
Звучать не перестанет никогда
Под сводом охраняющей листвы
Ты, юность, будешь вечно молода!
О вечно свежих листьев переплет,
Весны непреходящей торжество!
Счастливый музыкант не устает,
Не старятся мелодии его.
Высокий мир! Высокая печаль!
Навек смиренный мрамором порыв!
Холодная, как Вечность, пастораль!
Когда и мы, свой возраст расточив,
Уйдем, — и нашу скорбь и маету
Иная сменит скорбь и маета,
Тогда — без притчей о добре и зле —
Ты и другим скажи начистоту:
«В прекрасном — правда, в правде — красота,
Вот все, что нужно помнить на земле».
(Перевод Г. Кружкова. 1998)
Неважно, предполагал ли поэт, что его Оде предстоит вдохновить неизвестного ему композитора на создание музыкального произведения. Это событие состоялось. А значит, состоялся акт коммуникации литератора и музыканта, поэзии и музыки. А значит, само стихотворение стало чем-то вроде послания поэта грядущему музыканту. Если посмотреть на родившееся в результате хоровое произведение с этой точки зрения, то можно увидеть ряд интереснейших вещей. В частности, некие «смысловые вызовы».
С первых слов поэтического текста мы такие вызовы можем обнаружить: «О, строгая невеста тишины». Это о вазе, которая, будучи освобожденной от известных бытовых функций, является предметом эстетического созерцания. И, что важно, – предметом визуального восприятия. В этом качестве она изначально дистанцирована от мира музыки.
Но поэт уже сделал шаг к преодолению этой дистанции. Тишина – это уже не из мира видимого, это уже из мира слышимого. Тишина принадлежит миру слышимого, хотя и парадоксальным образом. Это – неслышимый элемент слышимого мира. Как и музыкальная пауза, которая является важнейшим элементом музыки, своего рода «нулевым звуком». Следующая строчка – новый шаг в этом же направлении: «Дитя медлительных столетий». «Медлительный» – характеристика времени, а время есть стихия музыки. Этим самым поэт как бы предлагает увидеть свой предмет в более широком контексте, выходящем за пределы пространственности, за пределы только лишь видимого. Он предлагает осознать его и в потоке времени, и в аспекте вечности, предлагает услышать его тишину, а значит, тем самым, омузыкалить.
В этом своеобразный вызов музыке со стороны поэзии: сможет ли музыка в свою очередь поддержать начатую игру?
Греческая ваза, к которой обращены слова поэта, живет в ином масштабе времени, несопоставимом с масштабом времени любого музыкального произведения. «Медлительные столетия», по сути, вечность – вот мера присущего ей хронотопа. Музыка своим содержанием также может быть обращена к вечному, но ее непосредственная жизнь всегда пульсирует в границах актуального теперь. Жизнь греческой вазы как особого культурного текста развертывается в веках, «векам несешь ты свежесть старины». Как кусок янтаря, способный столетиями сохранять в себе случайно попавшего в смолу мотылька, так и ваза приобщает к вечности наэлектризованные мгновения экстатического танца и музыки: «яростный экстаз», «флейт и тимпанов отдаленный зов». Став рисунком на поверхности вазы, они потеряли непосредственное звучание, однако «неслышные, они еще нежней».
Чем ответит музыка? Сможет ли она вместить в свое актуальное «теперь» образ «медлительных столетий» и выразить в звуке, то есть проинтонировать, вечность? И можно ли в принципе передать средствами музыки ощущение «навек смиренного мрамором порыва»?
Со всем этим связан еще один вызов – вызов визуальности. Если верить эстетической интуиции поэта, молчаливая, обращенная исключительно к зрению греческая ваза сумела поймать и запечатать в себе не только миг яростного экстаза, но и звук, «флейт и тимпанов отдаленный зов».
Может ли музыка ответить симметрично? Может ли она превратить слух в орган ви́дения, подарив нам парадоксальный опыт созерцания в обход зрения?
Общая картина получается пока следующая. Поэт, а в его лице Поэзия обращает свой мысленный взор на оппозицию двух искусств — визуального, вневременно́го, с одной стороны, и аудиального, временно́го, с другой. Точкой их встречи, фокусом взаимодействия является здесь греческая ваза. Она каким-то «волшебным» образом вмещает в себе и миг, и вечность, и покой, и яростный экстаз, и тишину, и звук. Она – феномен пластического искусства – несет в себе музыку. Возможно ли обратное отношение? Может ли музыка воспроизвести похожую смысловую структуру?
И здесь самое время заметить, что эта смысловая структура сложнее, чем мы только что ее обрисовали. Важнейшим ее элементом является оппозиция времени и вечности или, как можно еще сказать, оппозиция «мира горнего» и «мира дольнего». Да, мы понимаем, что эти символические образы трактовались по-разному разными мыслителями, что, в частности, античный способ их понимания не таков, как средневековый. Но в нашем случае важнее сосредоточиться на том общем, что их объединяет. В частности, на идее мига, мгновения, предельного теперь, и на его отношении к вечности, к абсолютному всегда. П. П. Гайденко в книге «Время. Длительность. Вечность» так пишет об этом отношении: «В вечности… все здесь и сейчас, там одно настоящее… Но, с другой стороны, и время причастно вечности, ибо в нем есть момент настоящего, который представляет собой что-то вроде отсвета вечности» (выделено мной, – Ю. Д.) [1, 60]. И там же она характеризует «теперь» как «окно в вечность».
Не об этом ли вечном теперь, хотя и другими словами пишет Китс? «Векам несешь ты свежесть старины», «И песню – ни прервать, ни приглушить; звучать не перестанет никогда», «ты, юность, будешь вечно молода! О, вечно свежих листьев переплет, весны непреходящей торжество! Счастливый музыкант не устает, не старятся мелодии его». «Навек смиренный мрамором порыв!»…
В приведенном выше образе «окна в вечность» зафиксирована напряженнейшая антиномия мгновения и вечности. И то и другое суть не время. Ни в том, ни в другом времени нет. «Теперь» не содержит времени постольку, поскольку в нем нет места для длительности, как и нет места для оппозиции «было – будет». Вечность же находится «по ту сторону» времени по определению; впуская в себя движение, развитие, оно теряет основные признаки вечности.
Впрочем, нас ведь интересуют не эти, уводящие в схоластику, рассуждения, а вопрос о том, как возможно художественно выразить стремление человеческой души к созерцанию вечности (попытку заглянуть через «окно в вечность»). И, в частности, какие возможности для этого открывает музыка — временно́е искусство.
Но прежде чем попытаться искать ответ на этот вопрос, обратим внимание еще на один существенный момент. Соотносить искусство, шире – культуру, с идеей вечности, такой ход мысли можно считать трюизмом. Об этом много говорилось. С одной стороны, речь тут может идти о способности живописи (а затем и фотографии) зафиксировать момент, поймать мгновение, заставить движение застыть в какой-то одной его фазе. С другой стороны, и это уже нечто более фундаментальное – говорят о важнейшей функции культуры фиксировать и передавать опыт, соединяя таким образом далекие поколения, обеспечивая преемственность развития. И в этом, ином смысле, мы также можем использовать образ «окна в вечность», понимая, что в данном случае он становится характеристикой культуры и культурных текстов.
Зачем мы вспоминаем здесь об этом? Мы бы и не стали этого делать, если бы сам поэт не сделал этого:
Когда и мы, свой возраст расточив,
Уйдем, – и нашу скорбь и маету
Иная сменит скорбь и маета,
Тогда – без притчей о добре и зле –
Ты и другим скажи начистоту:
«В прекрасном – правда, в правде – красота,
Вот все, что нужно помнить на земле».
Итак, сам поэт характеризует греческую вазу как «окно в вечность», причем, не в одном, а в двух внутренне резонирующих смыслах (феноменологическом и культурологическом). С одной стороны, он предъявляет свой опыт преодоления времени, выхода из его потока через интенсивное созерцание греческой вазы, которая сама при этом становится своего рода окном в вечность. С другой стороны, он обращается к ней как собирательному образу самой культуры, прося о том, чтобы она и впредь продолжала осуществлять свою великую миссию.
Таковы в общих чертах основные, на наш взгляд, смысловые вызовы стихотворения. Принимает ли эти вызовы композитор? И если да, что как он на них отвечает? Прежде чем обратиться непосредственно к партитуре произведения, зафиксируем один критически значимый тезис. Заключается он в принципиальной невозможности для музыки непосредственно обращаться к вечности, к визуальности, к неподвижности и к тишине. Последняя, впрочем, проникает в музыкальную ткань в виде пауз. Но, строго говоря, лишь в отношении к звуку момент тишины приобретает смысл музыкальной паузы. Произведение, состоящее из одних пауз, есть всего лишь шутка, остроумный парадокс. Музыка не способна иметь дело с этими идеями непосредственно, но она может делать это опосредованно, косвенно, она может направлять нашу мысль в соответствующую сторону, задавая определенные смысловые векторы. Пребывая в движении, вызывать образ покоя. Живя во времени, направлять мысль к вечности. Обращаясь к слуху, рождать визуальные образы. Гармонией звуков утверждать ценность тишины…
Иными словами, не пребывая в Вечности и не достигая Вечности (не «дотягиваясь» до вечного), она способна множеством способов «указывать» в направлении Вечности, вызывать соответствующие мысли, ассоциации, переживания; она может оперировать соответствующими символическими средствами, формируя необходимое умонастроение. И есть основания ожидать, что таких «намеков» мы встретим не один, а множество, что, в общем, свойственно для художественного, музыкального, в частности, воздействия. Здесь уместно вспомнить сформулированный Л. А. Мазелем «принцип множественного и концентрированного воздействия» [2].
Впрочем, не приписываем ли мы композитору намерений, которых у него вовсе не было? Не попадаем ли мы во власть собственных философических фантазий? Сам автор ничего по этому поводу нам не сообщает. Да и не в намерениях дело. Задачи, которые автор сознательно ставит, и тот художественный результат, который фактически имеет место (то, что в результате получилось) далеко не одно и то же. Поэтому мы вправе поставить вопрос и искать на него ответ в самой музыке. На свой страх и риск.
Первое символическое послание кантаты мы получаем еще до того, как прозвучали первые ее звуки. И, заметим, это послание визуальное. На сцене мы видим хор, а перед ним два рояля, по правую и левую сторону. В том смысловом контексте, который уже задан самим названием, данный образ начинает раскрывать свои ассоциативные горизонты. Симметрия общей композиции. Форма раскрытых крышек рояля, напоминающая своим характерным изгибом силуэт вазы. А еще – арфу, инструмент из античных времен… Если рояли напоминают всем этим вазу, то сам хор, возвышающийся в пространстве между ними, может восприниматься как рисунок на поверхности вазы, расположенный по окружности. Получается, что ваза будет петь сама о себе.
Все это рождает соответствующие ожидания, создает определенный идейный настрой.
Но вот, прозвучали самые первые звуки. И на этом моменте я предлагаю остановиться особо. Тем более что сам композитор останавливается на них. Он многократно повторяет один и тот же краткий мотив, одну и то же неизменную последовательность из пяти звуков. Точнее сказать, неизменную последовательность интервалов, ибо в дальнейшем эта последовательность сдвигается по высоте, транспонируется, что лишь подчеркивает неизменность структуры. Этот мотив многократно повторяется и в начале (41 раз), и в конце произведения, не претерпевая структурных изменений.
Складывается впечатление, что нашему сознанию предъявляется для созерцания нечто, имеющее строго неизменную форму. Но, при этой неизменности, созерцаемый объект может менять относительно наблюдателя свое положение, перемещаясь, но не изменяясь. Так можем мы созерцать самые разные предметы, обладающие устойчивой формой. В том числе так мы можем рассматривать и вазу. Впрочем, не будем спешить с подобными заключениями.
Вот этот мотив.
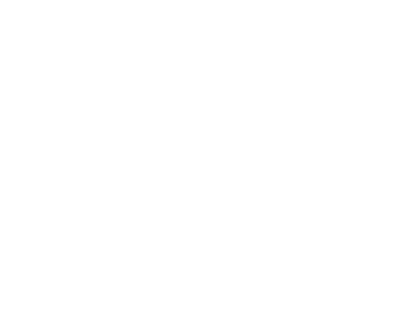
Пять звуков рассматриваемого мотива образуют четыре восходящих интервала: тритон, малая секста, большая секста, большая секунда. Первые три интервала образуют явную закономерность: каждый последующий больше предыдущего. Получается, что движение вверх происходит с ускорением. И лишь последний шаг знаменует замедление, а затем и остановку, которая длится существенно дольше всего предшествовавшего.
Что может напоминать такой интонационный жест? Воздержимся от каких‑либо физических аналогий, хотя и они возможны. Этот музыкальный жест как таковой сам по себе содержит сигнал (интенцию) на перенос слушательского внимания со среднего на значительно более высокий диапазон. Можно сказать, на верхние сферы музыкального пространства. Этому музыкальному жесту мог бы соответствовать жест указания рукой вверх. Или просто перенос взгляда вверх.
Но это лишь один смысловой штрих. Сам этот краткий мотив гораздо богаче по своим смыслам.
Данное только что описание начального мотива «Оды», который мы с определенным на то основанием будем называть основным, касалось развертывания пространственного параметра во времени. Посмотрим теперь, что происходит с энергетическим параметром [3, 76–80]. Если представить данный мотив как последовательность мелодических интервалов и выписать последовательно энергетические значения этих интервалов, то получим следующую картину.
ув.4 – +6
м.6 – -4
б.6 – +3
б.2 – +2
Взяв эти значения по модулю, то есть, абстрагировавшись от направления интервалов (восходящий или нисходящий) и сосредоточившись на энергетической разности составляющих его звуков, мы увидим ряд убывающих значений: 6, 4, 3, 2. Иными словами, по мере движения вверх, энергетическое напряжение интервалов, составляющих данный мотив, последовательно уменьшается.В книге «Очерки теории музыкального моделирования» в главе «Гармоническое исчисление» [3], была показана обратная зависимость между энергетическим уровнем интервала и такой его когнитивной характеристикой, как определенность-неопределенность. В соответствие с этой закономерностью определенность интервалов данного ряда последовательно увеличивается: 1/2, 3/4, 5/6, 11/12.
Странным образом нас здесь преследует одна и та же цифровая закономерность. Если смотреть по интервалам, то 3+1, а если по звукам, то 4+1 (мелодических интервалов в этом мотиве у нас четыре, а звуков пять).
Пространственная характеристика интервалов образует закономерность, которая уже была описана. Первые три интервала – широкие и при этом последовательно расширяющиеся, а последний, четвертый – узкий. То есть, 3+1. А если брать не последовательность интервалов, а последовательность звуков, то их ритм образует закономерность 4+1, так как первые четыре звука – шестнадцатые, а последняя (пятый) – половинка плюс восьмая с точной.
Энергетическая характеристика интервалов, взятая по абсолютной величине, дает ряд: +6, -4, +3, +2. Три интервала имеют положительное значение энергии, а один — отрицательное. Если же взять энергетическое значение интервалов по модулю, то ряд будет иметь вид: 6, 4, 3, 2. Три числа – 4, 3, 2 – идут подряд, а число 6 является исключением из этого правила.
Проделаем еще одну элементарную операцию – сведем эти широко расставленные звуки вместе, образовав подобие гаммообразной последовательности. Вот что у нас получится: ля1, сиb1, си1, до2, ми3. Мы видим, что первые четыре звука образуют три полутона, а четвертый с пятым – большую терцию. И опять 3+1 (4+1).
Что бы это могло значить? Давайте пока отложим всяческие герменевтические (тем более, нумерологические) изыскания. Поле деятельности здесь открывается широкое, но сам композитор этим не занимался. По его собственному признанию, способ получения основного мотива «Оды» был у него совершенно иной. Причем достаточно известный. Зная, что пишет это произведение специально для хора «Весна», с которым Подгайца связывают многие годы плодотворного творческого сотрудничества, он «зашифровал» буквы слова «весна» с помощью нот: в – B (си-бемоль), е – Е (ми), с – С (до), н – H (си), а – A (ля). Порядок последних двух звуков он все-таки поменял. Значит были у него на то какие-то причины. Сам он говорит об этом весьма кратко: «Просто, мне так больше понравилось». Это очень ценный ответ. Исследователи могут находить любые «скрытые» закономерности в музыкальном произведении. Не надо только приписывать композитору сознательные намерения эти закономерности целенаправленно выстраивать. Помимо сознательных расчетов, замыслов и намерений рукою автора, можно сказать, движут и иные силы. Платон в связи с этим говорил о Музе, современные психологи – о бессознательном. Мы же, оставляя вопрос о причинах и движущих мотивах, говорим лишь о том, что есть.
А есть, помимо прочего, слово «весна». У данного слова тоже имеется своя структура. И в этой структуре нетрудно увидеть те же самые числовые отношения. Посмотрим на звуковой состав: в, е, с, н, а. Среди этих пяти звуков только один произносится без помощи голоса. Это звук «с». Получается 4+1. А если брать по парам (что-то аналогичное интервалам мелодии), то получим: ве, ес, сн, на. Первая, вторая и четвертая пара включают в свой состав гласный звук и потому могут выступать в качестве слога (не этого именно слова, а в принципе). Что же касается третьей пары (сн), то она гласного звука не содержит и выступать в качестве слога не может. Получается 3+1.
Имеет ли все это отношение к сознательному творчеству композитора? Разумеется, нет. Но не исключено, что на бессознательном уровне композитор уловил закономерности, спрятанные в структуре слова, и каким-то образом воспроизвел их в музыке. Впрочем, это всего лишь предположения.
Может ли все это как-либо сказываться на художественном результате? Кто знает…
Продолжим анализ главного мотива. Выше мы заметили, что интервалы этого мотива образуют закономерность, в соответствии с которой каждый последующий обладает более высоким уровнем определенности. Самый неопределенный – первый (тритон). Вне связи с иными звуками тритон с равной вероятностью может оказаться и увеличенной квартой, и уменьшенной квинтой. Можно сказать, что он по своей сути несет в себе качество неопределенности.
Далее определенность нарастает. Самый определенный в этом ряду последний интервал – большая секунда ля-си. Однако если взять эту большую секунду в связи с первым звуком последовательности – си бемолем, то образуется сочетание, которое мы назовем гармоническим парадоксом [См. подробнее: 3, 115–144]. Его, в частности, можно выразить так:
Если первый звук – си-бемоль, то предпоследний – ля.
Если предпоследний звук – ля, то последний – си.
Если последний звук – си, то первый – ля-диез (то есть, не си-бемоль).
В итоге получаем, что если первый звук – си-бемоль, то первый звук – не си‑бемоль. (Если А, то не-А).
Этот первый звук так или иначе вступает во взаимодействие с последними двумя. Во-первых, потому, что, как первый, он остается в памяти и в качестве звукового следа вступает в контакт с последними. Во-вторых, потому, что мотив этот повторяется многократно, и каждый раз после его завершения снова звучит первый звук. Таким образом, звуковая последовательность как бы закольцовывается (наподобие змеи, кусающей собственный хвост). Идя от неопределенности ко все большей определенности, мы вдруг попадаем в противоречие, в парадокс, который есть «неопределенность в квадрате». И вот эта удивительная формула повторяется множество раз.
До настоящего момента мы рассматривали мотив с точки зрения разных его параметров (пространство, энергия, определенность) и изменения значений этих параметров во времени. Последнее мы брали исключительно в аспекте временно́го порядка. Теперь несколько изменим наш подход. Присмотримся чуть внимательней к взаимодействию разных параметров.
Это взаимодействие имеет разные стороны. Во-первых, в результате взаимодействия двух или более разных параметров, могут образовываться новые. Так, взаимодействие энергии и расстояния дает силу, а энергии и времени – мощность. Это, так сказать, реальное, физическое взаимодействие. Но мы сейчас – о другом. Об отражении параметров на идеальном плане, об их моделировании и далее об их участии в процессе моделирования реальности.
Все не так сложно, как может показаться.
Предположим, нам нужно отобразить (смоделировать) изменение параметра X относительно параметра Y. Например, изменение уличной температуры в течение суток. Наиболее типичный (и, пожалуй, наиболее естественный) прием в данном случае – начертить соответствующий график. В результате этой работы у нас получается некоторая кривая. Кривая, эта, заметьте, имеет свою форму. И вот эта-то форма независимо от ее исходного значения обладает своей, так сказать, эстетикой (красотой) и, возможно, некоторой выразительностью. Не исключено, что она может вызвать ассоциации с определенными символами и иными носителями культурных смыслов. Иными словами, кривая на графике сама по себе может стать своего рода рисунком.
Сказанное может показаться странным. Однако если вдуматься, то речь идет о вещах известных и даже привычных. Например, в книге В. Носиной «Символика музыки И. С. Баха» [4] подробно разбираются музыкальные символы, многие из которых имеют своеобразную музыкально-графическую природу, то есть, как бы рисуются с помощью мелодической (хотя и не только) линии. Музыкальные звуки играют роль карандаша или мела, а доской или бумагой оказывается наше музыкальное сознание. Среди известных музыкально-графических символов такого рода упомянем catabasis (нисхождение), anabasis (восхождение), circulatio (вращение, круг). И, конечно же, сюда относится символ креста. Все это музыка рисует с помощью «графиков» изменения параметров своих звуков. И прочитываются эти рисунки далеко не только на сознательном уровне.
Попробуем взглянуть с этой точки зрения на взаимодействие параметров первого мотива кантаты.
Начертим график этой мелодии, где на оси X отметим значения пространства (полутоновая шкала), а на оси Y – значения энергии (квинтовая шкала).
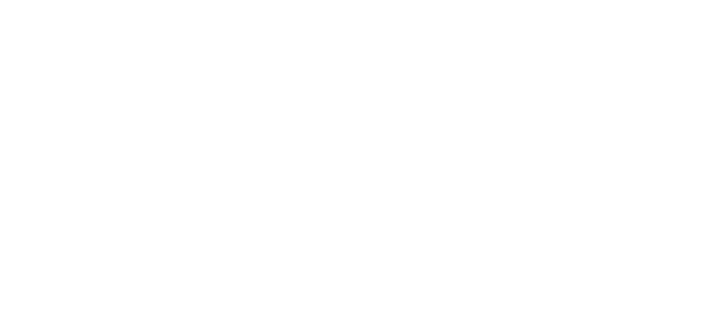
Илл. 1. График мелодии основного мотива
Во-первых, повернем график так, чтобы ось X (пространство) расположилась вертикально:
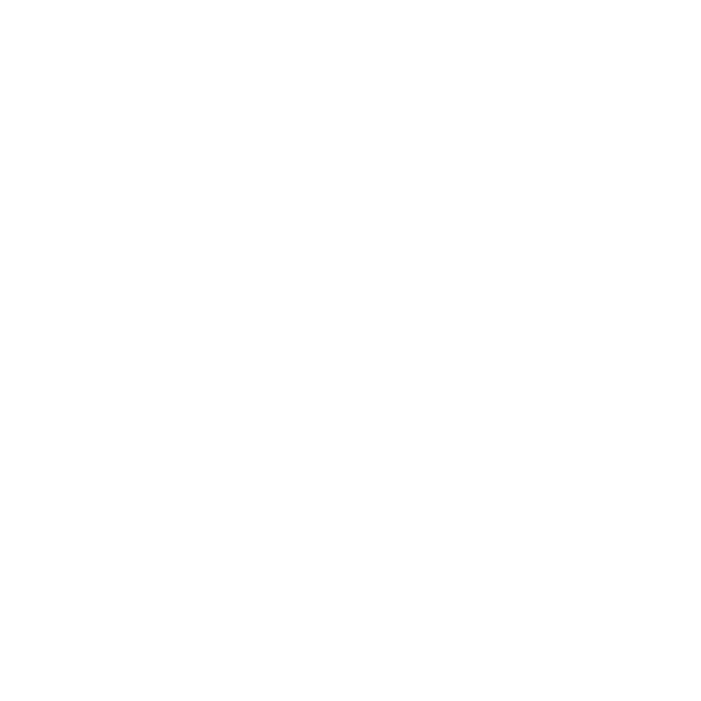
Илл. 2. Повернутый график мелодии основного мотива
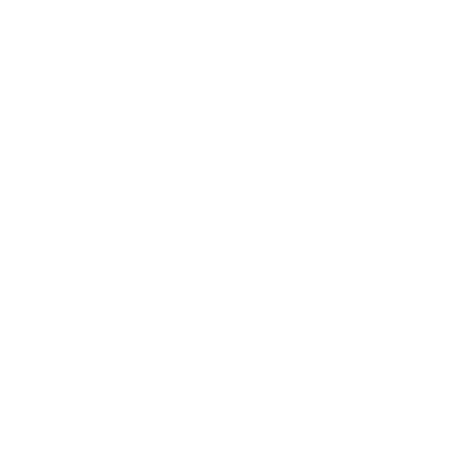
Илл. 3. Перевернутый график мелодии основного мотива и его зеркальная симметрия
Хотя, не только. Этот изгиб напоминает и арфу, и лиру, и крышку фортепиано, и скрипку со всем семейством, и гитару, и даже (отдаленно) женский силуэт. То есть, этот музыкально-графический символ имеет обобщенный смысл, соединяя в один узел многие ассоциативные связи. И, безусловно, он имеет многочисленные источники в живой природе.
Как в этом месте не вспомнить о двух симметрично расположенных фортепиано, о чем мы уже писали выше.
Думаю, мы не слишком погрешим от истины, если отнесем связанные с этой формой образы к разряду архетипических.
Выше мы заметили, что складывается впечатление, будто нашему сознанию предъявляется для созерцания нечто неизменное. Архетипические символы – чем не предмет для созерцания?
Партитура «Оды» содержит в себе и другие фрагменты, построенные на основе иного, но в чем-то подобного мотива, который также как и первый (основной) многократно повторяется, иногда сдвигается по высоте, не претерпевая каких-либо иных изменений. И если построения с первым мотивом располагаются «по краям» произведения (вспоминается известный «фактор края»), как бы обрамляя всю картину, как два рояля обрамляют собой картину, происходящего на сцене, то построения со вторым мотивом, о котором сейчас пойдет речь, находятся «внутри». Здесь невольно напрашивается аналогия со структурой самой вазы. Изгиб ее силуэта есть ее граница с иным. Рисунок на ее поверхности, – то, что находится в пределах ее границ, внутри границ. «О чем по кругу ты ведешь рассказ?» – спрашивает поэт. Именно этот вопрос задает и хор на фоне настойчиво повторяющегося второго мотива. И далее – «То смертных силуэты, иль богов? Откуда этот яростный экстаз?».
Совершенно очевидно, что вопросы эти не могут относиться к форме вазы, а лишь к рисункам на ее поверхности, «по кругу». Один из таких рисунков непроизвольно всплыл в моей памяти во время прослушивания кантаты. Вот он:
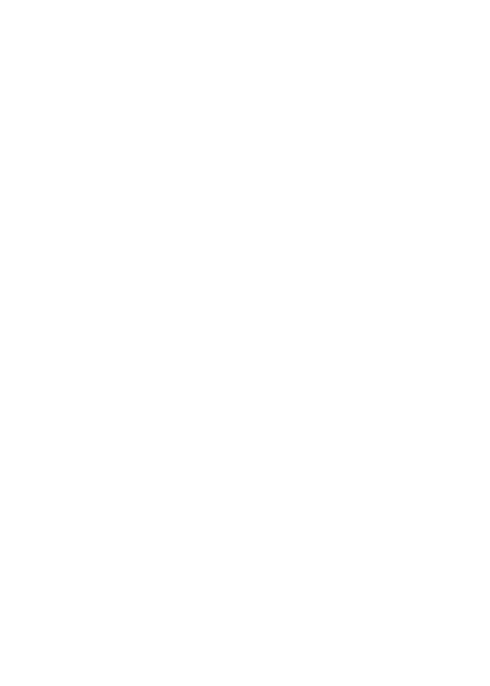
Илл. 4. Греческая ваза (ок. 530 г. до н. э). Метрополитен-музей. Нью-Йорк
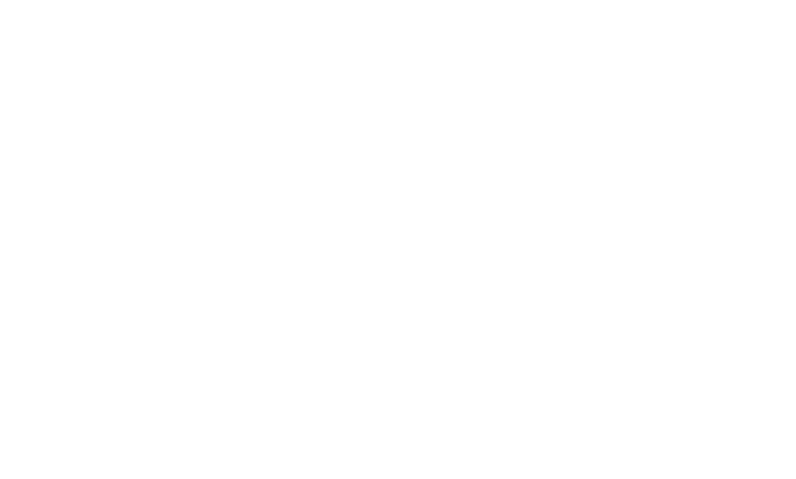
Илл. 5. Греческая ваза (ок. 530 г. до н. э). Метрополитен-музей. Нью-Йорк
А вот мотив, о котором идет речь, и который именно своим звучанием вызвал во мне совершенно определенную невольную ассоциацию:
Пример 2. Е. Подгайц. «Ода греческой вазе» для двух фортепиано и детского хора
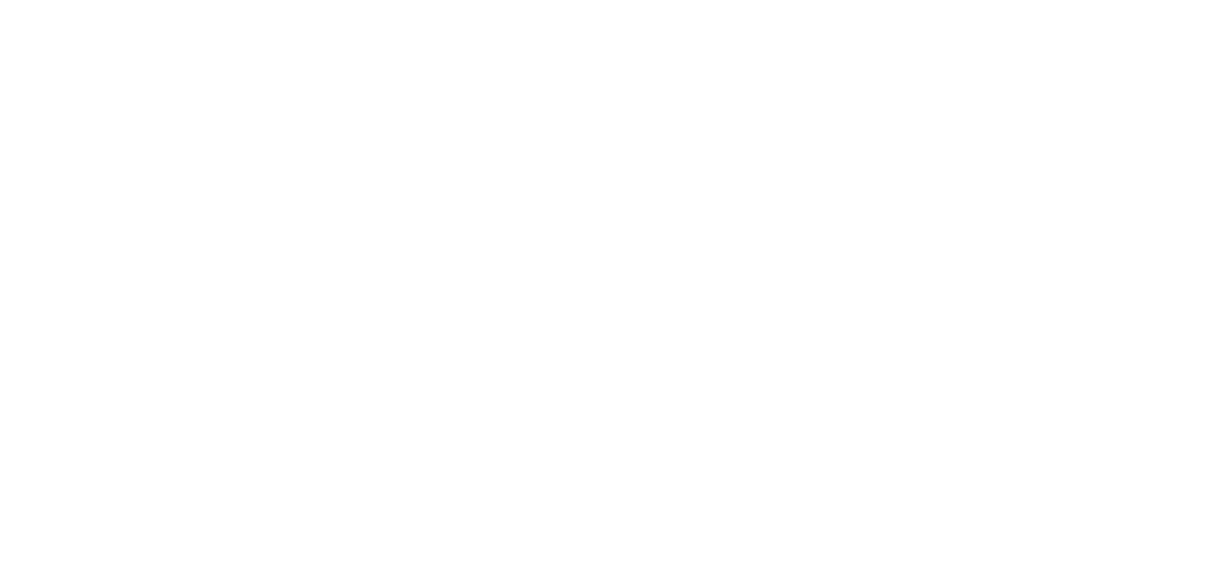
1. На рисунке мы видим десять бегущих ног, находящихся визуально на примерно одинаковом расстоянии. Двутактовый мотив состоит из десяти звуков одинаковой длительности. (Заметим, что с этой «десятичностью» резонирует и ритм стиха: каждая его строка состоит из десяти слогов).
2. Звуки не длятся, а исполняются staccato, отрывисто. Так бьют по земле ноги бегуна.
3. В каждом такте пять звуков, пять акцентных точек, расположенных на существенно разной высоте. Каждая из изображенных фигур также содержит пять акцентных точек на разной высоте и на значительном расстоянии – это руки, ноги и голова. Вспомним, в связи с этим, что и первый мотив также состоит из пяти звуков.
4. Пять акцентных точек здесь создают знакомую уже закономерность 4+1 – четыре конечности и одна голова.
5. Многократное повторение мотива, сливающееся в непрерывное остинатное движение, с одной стороны, подобно непрерывному бегу, с другой стороны, резонирует с многократным повторением подобных фигур на рисунке, который тем самым приближается к орнаменту.
Второй мотив сильнейшим образом контрастирует с первым. Однако есть между ними и существенные аналогии.
1. Пять звуков, не меняющих направление, стремительно завоевывающих пространство.
2. Неизменная структура мотива; изменение звуковысотного положения – единственное допускаемое преобразование.
3. Оба начинаются с тритона.
4. Большое число непрерывных повторений.
5. В нем так же, как и в первом, действует закономерность 3+1. Возьмите любые четыре звука этого построения (подряд). В этой последовательности разных звуков будет три, а один – повторенный дважды.
Очень важное, хотя и кажущееся «ничтожным» отличие – последний звук первого мотива, который застывает и длится дольше, чем все предшествующие звуки. Остановка, которой принципиально нет во втором мотиве. Расфокусированное созерцание, которого решительно не допускает напряженная моторность второго мотива. Он все сжимает в одну точку, спрессовывает в предельно плотный миг. Бегущая лента времени на наших глазах сворачивается в компактный клубок. Давление внутри мгновения нарастает, и оно, кажется, готово взорваться.
Быть может, именно такое мгновение и есть «окно в вечность»?
Попробуем и этот, второй мотив отобразить в виде графика.
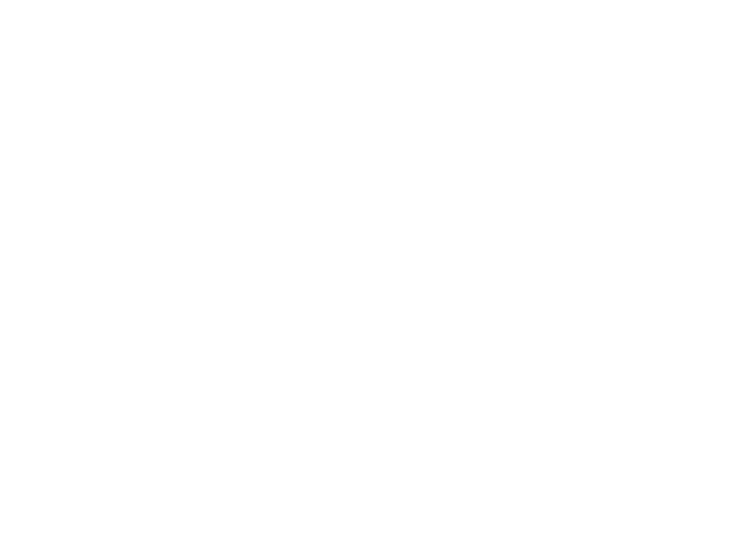
Илл. 6. График мелодии второго мотива
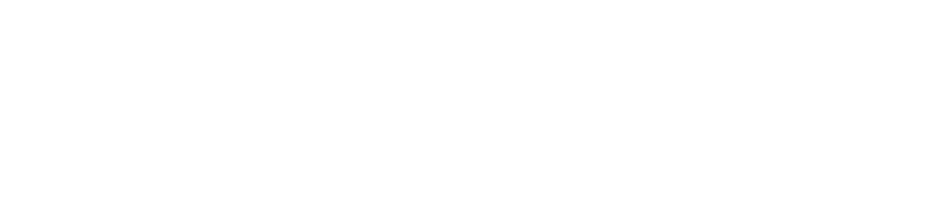
Илл. 7. Ряд графиков мелодии второго мотива
Партитура «Оды» содержит и иные, менее крупные фрагменты, где обнаруживаются закономерности, подобные вышеописанным. Например, в тактах 11–14 хор поет фразу, построенную на основе двутактового мотива, который первый раз звучит от звука до, а второй – от звука си (т. е. со сдвигом на полтона):
Пример 3. Е. Подгайц. «Ода греческой вазе» для двух фортепиано и детского хора
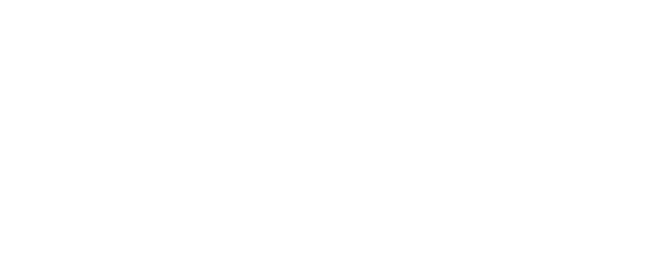
2. Первый интервал – прима (сочетание двух одинаковых звуков). И это отличает его от всех остальных, каждый из которых состоит из разных звуков. Возникает оппозиция тождества и различия. В итоге получается структура 4+1.
3. Если взять все интервалы, кроме первого, т. е., состоящие из разных звуков, то получится такая последовательность – б.2, б.3, б.2, м.2. Б.3 (большая терция) – консонанс, остальные (большие и малая секунды) – диссонансы. Опять возникает знакомая закономерность 3+1.
4. Сложим последовательно (в восходящем направлении) звуки, входящие в данное построение от ноты ре1 вверх. Получим ряд: ре1, фа#1, ля1, си1, до2. Если представить этот ряд в виде последовательности интервалов, то получим б.3, м.3, б.2, м.2. То есть, закономерность непрерывного убывания. Убывания до предела. До полутона. Дальше – прима, мелодические линии сливаются. Такого рода непрерывное убывание или увеличение встречалось нам и раньше. В данном случае эта последовательность уменьшающихся интервалов может ассоциироваться с рядом все более далеких объектов. Подобный интонационный жест можно было бы сравнить со взглядом, устремленным вдаль.
5. Еще раз взглянем на последовательность ре1, фа#1, ля1, си1, до2. Нетрудно заметить, что четыре звука – ре1, фа#1, ля1, до2 составляют аккорд (малый мажорный септаккорд), т. е. являются аккордовыми. Звук си1 в этом контексте является чуждым (неаккордовым). Если же сложить эти же звуки в последовательность от ля1, то получим ряд: ля1, си1, до2, ре2, фа#2. В этом случае, ля1, си1, до2, ре2 составляют гаммообразный ряд, дорийский тетрахорд. А звук фа#2 оказывается «лишним». И в том, и в другом случае мы получаем формулу 4+1.
У Шумана в «Карнавале» есть номер «Танцующие буквы». Здесь же мы видим нечто, что могли бы назвать «танцующими числами». Правда, Шуман сделал это вполне сознательно и целенаправленно. В нашем же случае, это, очевидно, не так. Тем более, это интересно.
Закономерность налицо. Она обнаруживается со всей настойчивостью и последовательностью. Как тут не вспомнить Лейбница с его тезисом о том, что музыка – это радость постоянно считающей души. Разумеется, счет этот происходит преимущественно на бессознательном уровне, а творец, который создает подобные образцы, должен всего лишь быть гением.
Несут ли эти числа какой-то смысл? Вопрос этот весьма интересен, но он уводит в области, весьма далекие от тех возможностей, которыми располагает теория музыки. Мы можем лишь предположить, что за этим что-то есть. Люди всегда чувствовали в числах нечто волнующее и загадочное и пытались проникнуть в их тайны...
* * * * *
Всегда ли обнаружение новых фактов, что называется, «проливает свет»? Увы, далеко не всегда. Иные факты, можно сказать, «проливают тьму». То есть, не только не объясняют каких-либо неясных вещей, но и сами настоятельно требуют объяснения. И эти объяснения далеко не всегда легко найти.Кажется, в данном случае мы столкнулись с чем-то подобным. Касается это, прежде всего, настойчиво повторяющихся цифровых закономерностей – 3+1 и 4+1. Нужно сразу сказать, что этих настойчиво повторяющихся сочетаний я специально не искал, да и вообще не стремился обнаружить каких-либо цифровых закономерностей. Я просто собирался повнимательнее рассмотреть «устройство» первого мотива произведения постольку, поскольку он многократно (а значит, неслучайно) повторялся в самом начале кантаты, а затем и ближе к концу. Указанные пропорции обнаружились сами собой, поскольку просто лежали на поверхности. И лишь только после этого возник естественный вопрос о том, насколько глубоко они пронизывают музыкальную ткань. Оказалось, глубоко. Впрочем, анализировались ведь только лишь два небольших мотива – те, на основе которых (на фоне их многократного повторения) выстраивались достаточно значительные эпизоды. Независимо от того, что бы мы там увидели, это не помогло бы ответить на вопросы, которые возникают в связи с обнаруженными уже фактами.
Означают ли что-нибудь эти пропорции? Если да, то что? Каковы причины их появления? Каковы их художественные и формообразующие функции? И т. д. Ясных объяснений нет. Зато предположений может быть много. И это лишь запутывает ситуацию. Попробуем перечислить некоторые такие гипотезы.
1. Обнаруженные при анализе двух кратких мотивов пропорции (3+1 и 4+1), указывают на существование неких структурных закономерностей самой музыкальной системы, в соответствии с которыми подобные пропорции неизбежно возникают. Иными словами, они не являются результатом творческой работы композитора, происходящей как на сознательном, так и на бессознательном уровне.
Такую гипотезу довольно легко проверить. Если бы она была верна, то любая (в том числе и случайная) последовательность из пяти нот соответствовала бы обнаруженной характеристике. Проверка быстро обнаруживает ошибочность подобных предположений.
2. Обсуждаемые закономерности обладают определенной «эстетической» значимостью. Их присутствие обеспечивает бо́льшее формальное совершенство, завершенность, равновесие, делает музыку более «красивой». То есть, являют собой нечто вроде пропорции «золотого сечения».
Если допустить верность подобного предположения, то пришлось бы допустить и то, что построения, где подобные закономерности отсутствуют, обладали бы более низким уровнем формального совершенства и, следовательно, более низким эстетическим качеством. Думаю, не представит особой трудности найти достаточное число музыкальных примеров, ставящих под сомнение подобные гипотезы. Что представляется более правдоподобным, так это то, что даже на уровне столь кратких музыкальных построений (мотивов), математические пропорции — не обязательно именно такие (!) — могут иметь важное значение как в отношении формы, так и в отношении содержания.
3. Настойчиво предъявляемые числовые пропорции могут обладать своей особой семантикой, находящейся в некотором соответствии (в смысловом резонансе) с общим замыслом произведения.
Данное предположение трудно, как доказать, так и опровергнуть. Произведение действительно насыщенно философскими смыслами и соответствующими этим смыслам символами (символически значимыми образами). То, что подобными смыслами могут обладать и числа, является известным фактом, не требующим доказательства. Среди известных систем, где трактуются вопросы символики чисел, в нашем случае особенно уместным будет упомянуть ту, родиной которой является Древняя Греция. Я имею в виду идеи Пифагора на этот счет. Однако насколько правомерным будет устанавливать сколько-нибудь прямую связь между какой бы то ни было нумерологической системой и данным музыкальным произведением? Лично мне это представляется большой натяжкой. Другое дело, что личная интуиция художника (композитора) может подсказывать ему те или иные художественные решения, которые реализуются без какого-либо сознательного намерения. Во всяком случае, для музыковеда тут открывается широкое поле для фантазии.
4. Возможно предположить существование некоторой связи между наличием в мотиве «спрятанных пропорций» (числовых закономерностей) и его использованием в контексте остинатных построений. Дело в том, что остинатное построение означает многократное повторение как самого мотива, так и тех скрытых закономерностей, которые он содержит. Такое многократное повторение способствует усилению воздействия на слушателя этих скрытых сообщений. Происходит «углубление следов», а, следовательно, усиление воздействия. Впрочем, нет оснований придавать этим возможным связям универсальный характер.
Каждое из приведенных выше предположений, мягко говоря, бесспорным не выглядит. Но в целом они указывают на наличие проблемы. На то, что «здесь что‑то есть». И это «что-то» приглашает к поискам. Немало вопросов теоретического и эстетического характера вызывает гипотетическая способность музыки к «рисованию» различного рода линий и форм...
Вернемся, однако, к вопросам, поставленным в начале. Сумела ли музыка ответить на вызов поэзии? Смогла ли она с помощью звуков увидеть красоту вазы и вслед за поэтом, но по-своему, прочесть спрятанное в ней философское послание? Смогла ли музыка воспроизвести акт созерцания вечного? Смогла ли стать инструментов ви́дения?
Лично я склонен ответить на эти вопросы утвердительно.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
2. Мазель Л. О двух важных принципах художественного воздействия // Сов. музыка. 1964. № 3. С. 47–54.
3. Дружкин Юрий. Очерки теории музыкального моделирования. Ridero, 2020. 170 с.
4. Носина В. Символика музыки И. С. Баха. М.: Классика–XXI, 2021. 56 с.
Получено: 18.06.2025
Принято к публикации: 01.08.2025
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Выпуск 3 (8) Сентябрь 2025
Страницы номера
31–53