Концерт для оркестра «Цугцванг» М. Б. Броннера — специфика жанра и музыкальной композиции
RU | ENG
Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова - Иванова, Москва, Россия, annanavetnaya@gmail.com1, anastasiakoroleva@imternet.ru2, ORCID: 0000 0003 0323-34191, ORCID: 0009-0002-0649-12102
Аннотация
Ключевые слова
Морально-нравственная проблематика, таким образом, фиксируется в образно-тематических линиях всего творчества и красной нитью пронизывает произведения разных жанров.
Одной из органичных форм художественного высказывания для М. Б. Броннера является концерт. Этому способствует особая композиционная мобильность и гибкость, которую приобрел жанр в музыкальном искусстве конца XX – начале XXI века [1]. Атрибутивные свойства концерта оригинально интерпретированы автором. Соревновательность наделяется конфликтным началом, виртуозность трансформируется в знак повышенной эмоциональности, игровая логика направлена на усиление драматургической экспрессии. Привлекает композитора и предрасположенность концерта к субъективно-личностному тону: партия солиста нередко трактуется как индивидуальное слово, будто отдельный голос, противопоставленный оркестровой массе.
Одной из интереснейших разновидностей жанра является концерт для оркестра, интерес к которому в целом свойственен отечественной музыке второй половины XX – начала XXI века [2]. В творчестве М. Б. Броннера данный жанр трактуется как концептуально-насыщенная философская поэма. Ярким примером тому становится Концерт для оркестра с солирующими фортепиано, скрипкой и кларнетом «Цугцванг»[1], премьера которого состоялась 17 ноября 2015 года в Большом зале Московского Дома композиторов. Сочинение вызвало горячий отклик публики, впечатленной драматической насыщенностью, высоким пафосом произведения.
Название отсылает слушателя к шахматам, где термином «цугцванг»[2] обозначается положение, при котором любой ход ведет к ухудшению позиции на игровом поле. В прочтении М. Б. Броннера это понятие выходит за рамки шахматной доски. По словам композитора, «любая игра максимально похожа на человеческую жизнь. Цугцванг образуется не сам по себе, он накапливается ввиду определенных человеческих ошибок. Идея сочинения в том, что попытка выйти из сложных жизненных, человеческих, музыкальных ситуаций ведет только к ухудшению. И стремление вырваться, выбраться из этого состояния – это параллель шахматной игры и существования человечества»[3]. Шахматный термин «цугцванг», таким образом, обретает в сочинении совершенно иной смысл: для автора он превращается в метафору игры человеческими жизнями. Сам он отмечает: «Композитор Броннер предельно социален. Моя музыка живет такими понятиями, как человеческая жизнь, добро, зло – это вечные абсолютные понятия».
[2] От нем. «zug» («ход») и «zwang» («принуждение»).
[3] Здесь и далее слова композитора цитируются из интервью М. Б. Броннера, записанного Королевой А. А. летом 2023 года.
Сам автор обозначает сочинение как концерт для оркестра. Именно концерт, генетически связанный с понятиями игры и соревновательности, позволяет продемонстрировать столь непростую тему в почти театрально-визуальном формате. Однако при изучении произведения определяется гораздо более сложная картина, ведь сочинение оказывается жанрово многозначным. Даже само понятие «концерта» дается композитором в расширенном смысле – он вбирает в себя признаки старинной формы concerto grosso. В то же время нельзя не отметить, что в «Цугцванге» сохраняется атрибуция классико-романтического концерта. Во-первых, три солиста пространственно отделяются от оркестровой группы и выходят на авансцену, в то время как в концертах для оркестра подобное разделение нехарактерно.
Во-вторых, подчеркивается соревновательное начало между ними и оркестром. Это выражено и в виртуозности партий солистов, и в попеременном чередовании материала, что позволяет усилить впечатление соперничества между данными группами. Примечательно, что подобное распределение оркестровых средств как бы указывает на содержательный подтекст: солирующий ансамбль – это обдумывание следующего хода, изображение попытки поиска правильного шага, а оркестр – тот самый «цугцванг», состояние, при котором любое действие приводит к ухудшению текущего положения.
В то же время можно обнаружить влияние симфонии, прочитанной композитором, как непрерывно развивающаяся инструментальная драма[4]. Этот высокий накал страстей, образно-эмоциональная насыщенность и яркий нарратив произведения свидетельствуют о сохранении генетического кода симфонии как жанра обобщающего, как бы воссоздающего музыкальными средствами широкую картину бытия во всей полноте и противоречивости. Вспомним слова Г. Малера, одного из знаковых для М. Б. Броннера композиторов: «… “симфония” как раз и означает для меня: всеми средствами имеющейся техники строить новый мир» [3, 467]. Содержательная сторона концерта «Цугцванг» полностью отвечает данной концепции жанра. М. Броннер создает сочинение, главной идеей которого является идущая от ориентиров романтизма концепция противопоставления человека и враждебного ему окружающего мира.
Подобный жанровый «микст» позволяет назвать «Цугцванг» оригинальным примером «дестабилизации жанра»[6] и говорит об эмоционально-семантической насыщенности произведения. Композитор подчеркивает, что «… замысел такого сочинения … идея безысходности – идея чисто эмоциональная». Каждый из указанных жанров имеет свой «удельный вес» в произведении, проявляя себя в специфике драматургии и особенностях композиции. В результате «Цугцванг» органично сочетает в себе различные способы организации и принципы развития материала, связанные с жанровыми началами.
Доминирующими становятся закономерности, характерные для concerto grosso и симфонии.
Тема рефрена, порученная солистам, звучит четырежды (такты 11–168, 308– 363, 639–685, 892–1022). В нем явно ощущается эмоциональное напряжение, нерв, сосредоточенный поиск выхода из сложившейся ситуации, что усилено рядом художественно-выразительных средств. Примечательно, что, отдавая данную тему именно солистам, композитор подчеркивает камерность звучания. В контексте программного замысла подобное «распределение сил» можно рассматривать как своеобразный маркер индивидуально-личностного начала, противопоставленного обезличенной толпе.
Музыкальный образ темы рефрена оказывается многомерен, его семантика многослойна и неоднозначна, на что указывает сложноорганизованный комплекс выразительных средств. В фактуре выделяются несколько основных пластов (пример 1). Первый из них – остинатные арпеджированные трезвучия, «крутящиеся» на одном месте и создающие ощущение монотонного, но нервозного движения. Второй пласт – pizzicato скрипки, напоминающее щелчки бегущей стрелки часов. Третьим пластом становится жалобная мелодизированная тема, построенная на нисходящих хроматизмах и «рисующая» образ напряженного, мучительного размышления. Данная тема поиска выделяется ярким интонационным материалом, привлекающий внимание рельефностью ламентозных мотивов, и становится своеобразным «нервом» произведения. Дополняется сложный полифактурный комплекс басовой линией, в основе которой – «пустые» кварто-квинтовые ходы и тритоны.
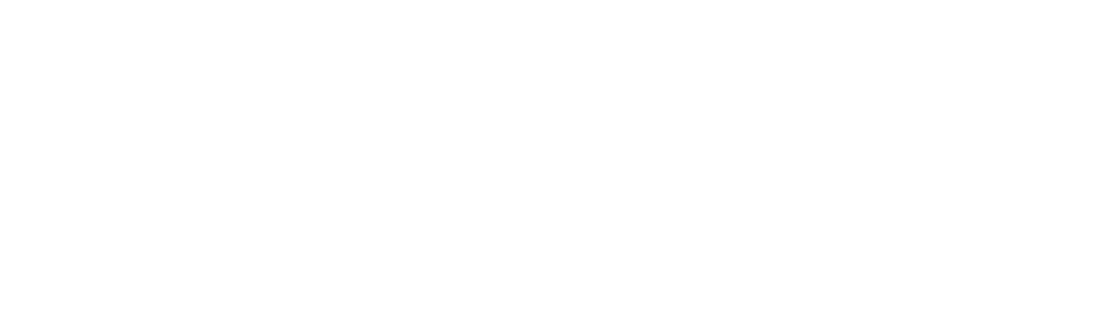
Это ярко подчеркивает образное содержание темы рефрена: при поиске решения время не ощущается линейно, оно замирает и превращается в напряженное дление-раздумье. Расслаивающаяся интонационно и метрически музыкальная ткань рефрена, таким образом, становится своеобразным семантическим ключом к трактовке данной темы мучительного размышления и поиска.
Начальное построение постепенно развивается, «обрастая» новыми линиями голосов. Композитор активно использует полифонические приемы канонических перекличек, а также дополняет тему новыми контрапунктами. Например, с такта 54 второй пласт, имитирующий ход часов, передается в группу первых скрипок, а у солирующей скрипки в высоком регистре теперь проводится ламентозный хроматический ход, образуя канон данной темы с фортепиано. В партии валторн и арфы появляются секундовые вертикали, насыщающие фактуру новым ритмическим рисунком и мягко диссонирующей гармонией. Дальнейшие изменения происходят в такте 97: «часовой» элемент в основном виде передается валторне, в то же время у первых скрипок он внутренне дробится паузами, усиливая эффект от ритмических разногласий. Суховатый тембр collegno дополняет эту звуковую картину «убегающего времени».
Вновь обновляется тематизм солирующей скрипки: звучит новый контрапункт, основанный на широких скачках. Эти покачивающиеся секстовые ходы изменяют ритмический рисунок и содержат метрическое противоречие с остальными мотивами (такты 100–101). Хроматическая нисходящая тема в данном разделе как бы расслаивается тембрально: начавшись в партии солирующего рояля, она подхватывается солирующим кларнетом и вновь возвращается к пианисту. Обратим внимание, что подобное тембральное «перекрашивание» темы свидетельствует об использовании композитором приема Klangfarbenmelodie, когда мелодия развивается именно благодаря тембральному обновлению, получая каждый раз новый инструментальный «наряд». В результате тема рефрена развертывается в разных плоскостях: постепенное интонационное прорастание усиливается сгущающимися гармоническими красками и подчеркивается оркестровыми средствами. Важным оказывается фактор и музыкального времени, когда «музыкальные события» идут как бы в независимых друг от друга метрических системах, то возникая, то исчезая.
Это продолжительное фактурно-тембровой развитие с постепенным уплотнением оркестровой ткани приводит к яркой кульминации раздела (такт 162). Три субмотива «прослаиваются» хроматическими пассажами со сложной ритмической организацией, в которой каждая партия обладает оригинальным рисунком. Вместе с усиливающейся динамикой подобная тематическая «насыщенность» и создает впечатление острого драматического накала, внезапно обрывающегося паузой.
Тема рефрена, сотканная из интонационных и метрических противоречий, являет собой необычайно выразительный образ. Композитору удается по‑театральному ярко воплотить музыкальными средствами сложный мир человеческих переживаний и исканий, буквально зафиксировать психологическую работу подсознания личности, находящейся перед сложным выбором. Обратим внимание, что конгломерат мотивов, образующих тему рефрена, имеет узнаваемые интонационно-ритмические лексемы ламенто, остинатного движения, пульсации времени, позволяющие слушателю довольно точно интерпретировать ее семантическое значение и образное содержание.
Дальнейшее развитие рефрена также дает возможность «прочитать» скрытый сюжет произведения. Тема претерпевает ряд изменений, что связано с ясным драматургическим замыслом. Столкновение с контрастными эпизодами приводит к существенным изменениям мелодики, масштаба, фактурно-тембральным преобразованиям и сигнализирует об образной трансформации темы. Характер этих метаморфоз определяется взаимодействием рефрена с эпизодами – чем более конфликтным оказывается их противопоставление, тем больше изменяется рефрен. Варьирование фактурных пластов происходит благодаря новым тембровым и звуковысотным инвариантам, а появление новых контрапунктов усиливает эмоциональный накал – инструментальная драма как бы выходит на следующий виток развития.
Например, второе проведение рефрена (такты 308–363) сильно сокращено (вместо первоначальных 157 тактов остается только 55) и одновременно интонационно дестабилизировано: уплотняется басовая линия, добавляются новые голоса (имитации темы и дополнительные «призвуки»), что способствует существенному уплотнению гармонии и повышению уровня ее диссонантности. Так, восходящие пассажи у солирующего кларнета идут по звукоряду e-moll таким образом, что подчеркивается хроматический ход от IV# ступени. Одновременно пассажи наслаиваются на полимодальный комплекс у группы солистов[7].
Ритмическая организация квинтолями усиливает впечатление метрической нестабильности – следует акцентное смещение и несоответствие мотива тактовой черте. Постепенное развитие приводит к кульминации-«обрыву», обозначенной восьмизвучным диезным кластером у фортепиано. Подчеркнутый мощной динамикой (ff), монолитной фактурой, он вызывает ассоциации с резким ударом в момент осознания человеком своей беспомощности, неспособности противостоять страшной силе. Эти же кластеры будут использованы несколько раз в последующем эпизоде (такты 372, 375, 376, 411, 413).
Заключительное четвертое проведение рефрена (такты 892–1022) становится своего рода «эпилогом». Это как бы последняя попытка героя высказаться, его заключительный монолог. Вначале возвращается арпеджированный мотив, однако если раньше тема звучала динамически сдержанно, то здесь она звучит ярче, благодаря удвоению этого пласта у фортепиано и арфы. Pizzicato дано в громкой динамике, что заставляет исполнителей нарочито ударно извлекать звуки. Третий мотив хроматического хода также подчеркивается f и дублировкой у солирующих скрипки и кларнета, затем переходит к первым скрипкам, как бы намекая, что грани стираются, а все личное исчезает, становится частью внешнего мира. В общую фактуру добавляется новая деталь – акцентируемые двухдольные «удары» интервалами у струнных и меди (такты 898, 900, 906–909 и далее). Постепенно оркестровое полотно «обрастает» другими тембрами, насыщается дополнительными фактурными компонентами (ритмические и мелодические имитации, подголоски, пассажи, «возгласы» солирующей скрипки), при этом основной мотив отходит на второй план, а затем совсем исчезает. После бурного развития фактура начинает разрежаться: сначала замолкают деревянные духовые, затем медь и перкуссия, далее струнная группа. В конце от общей фактуры остается лишь малая часть: арпеджированные трезвучия звучат попеременно у фортепиано и арфы и, постепенно сокращаясь, создают эффект «торможения». «Отблески» главного мотива слышатся поочередно у фортепиано и кларнета, литавры отбивают квартовые ходы, ритмически и графически напоминающие кардиограмму «умирающего сердца».
Подобная сложная трансформация рефрена свидетельствует об особом драматургическом замысле композитора. Поручение данной темы группе солистов позволяет трактовать ее собирательный образ личности, переживающей, раздумывающей, мучительно ищущей ответы. Столкновения с внешними силами, острые конфликты приводят к существенным метаморфозам образа, как бы фиксируя реакцию лирического героя на произошедшие события. Происходящий интонационный «распад» усиливает впечатление трагического подтекста произведения – каждый ход вынужденный, сделанный по принуждению и ведет лишь к ухудшению позиции.
Глубокий конфликт противостояния, заложенный в «Цугцванге», реализуется благодаря сопоставлению рефрена с эпизодами. Эти противоречия последовательно обнажают этапы развертывания инструментальной драмы, а каждый эпизод можно уподобить новой сцене напряженного действа. Отметим, что конфликт подчеркивается самой фактурой – противопоставление группы солистов и tutti.
Первый эпизод (такты 169–298) наиболее значительный в драматургии произведения и содержит одну из важнейших его тем. Ее яркий образный характер можно уподобить идее фатума, силе довлеющей, принуждающей, тому самому цугцвангу (пример 2). Устрашающий характер продемонстрирован даже графически. Тема цугцванга отличается подчеркнутой угловатостью – резкостью используемых интервальных соотношений (септимы, секунды, тритоны), здесь присутствуют широкие скачки и непривычные интонационные обороты, она нарочито неудобная для исполнения, колкая, как бы «отпугивающая». Усиливается впечатление жесткого, даже агрессивного звучания «рваной», неравномерной ритмикой, которая разбивает тему на множество небольших ячеек, разделенных мелкими паузами, в каждой из которых разное количество нот. Очевидно, здесь смещение сильных долей и акцентное варьирование: в первом такте главной долей ощущается вторая, во втором – первая и третья, в третьем – вторая и четвертая. Таким образом, тема цугцванга производит впечатление максимально удаленного от всего естественного, гармоничного, человеческого.
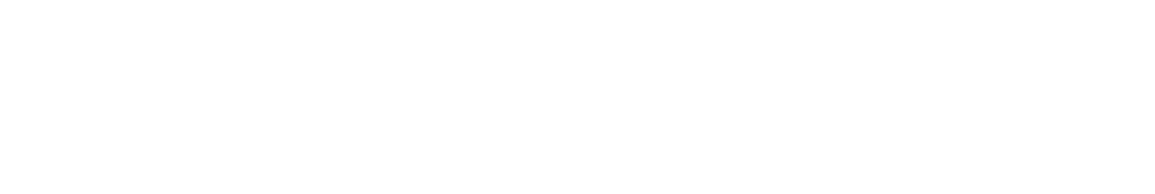
Обратим внимание на тембральное изложение. Изначально тема, занимающая 10 тактов, поручена первым и вторым скрипкам, однако затем проводится солирующим кларнетом, фортепиано, трубой, как бы «захватывая» и подчиняя себе голоса солистов. Удержанное противосложение, возникающее в 179 такте у солирующей скрипки, усиливает ее мрачный облик. Далее тема, постепенно укорачиваясь и сжимаясь до кратких мотивов, еще трижды проходит у кларнета. Ее же интонации слышатся в двух интермедиях, когда оркестровая ткань активно насыщается имитациями.
Затем возникает новая тема (такт 264), изложенная каноном у солирующих скрипки и кларнета, позднее у фортепиано. Она схожа с первой по интонационному строю, но отличается новым прочтением мотивов. Тема становится, скорее, жалобной, стонущей, что подчеркнуто ходами на секунды и септимы. Меняется и ритмический рисунок: тема как бы «выравнивается», длительности увеличиваются, а паузы внутри напоминают вздохи, подчеркивая общий ламентозный характер. Примечательно, что вторая тема не так стабильна, как первая, у нее нет устойчивой модели, формулы построения. Главной ее особенностью становится принцип своеобразного «ядра и развертывания», где начальная интонация большой септимы постепенно заполняется движением по уменьшенным трезвучиям. Каждое развертывание имеет индивидуальный вид, проведения варьируются, наполняются дополнительными построениями и мелизмами. Фактура во втором разделе первого эпизода менее плотная. Основным пластом остается тема, звучащая поочередно у солистов. В оркестре сначала выдерживаются «щемящие», как бы вторящие основной теме малые секунды (у флейт и скрипок), но постепенно возвращаются имитации.
Тема цугцванга принимает на себя важную драматургическую функцию – она не просто характеризует абстрактную зловещую силу, но и становится главным антагонистом лирического героя произведения. Значительность темы проявляется в интонационном преобладании ее мотивов в последующих эпизодах, которые, хотя и имеют свой отличный образный строй, тем не менее, сохраняют интонационную модель темы цугцванга.
Так, второй эпизод (такты 368–530) открывается ее измененным вариантом. Сохраняя основные интонационные особенности темы (преобладание скачков в мелодии), автор дробит материал и развивает его в форме своеобразной монтажной цепочки, звеньями которой являются отдельные мотивы темы, порученные различным инструментам. В связи с отсутствием непрерывного и обособленного тематизма, ритмика становится еще более свободной, разрозненной, индивидуальной для каждого из мотивных звеньев, а в середине раздела на некоторое время устанавливается характерная для композитора сложная переменная метрика (размер 3/8+4/8). От калейдоскопическо-мозаичной организации, несколько схожей с оркестровой техникой И. Ф. Стравинского, постепенно развивающийся музыкальный материал образует плотный мотивный рельеф, основанный на функциональной оркестровке и графичности.
Изменения в средствах художественной выразительности направлены на создание отличной от первого эпизода эмоциональной окраски темы цугцванга. Обратим внимание, что в данном эпизоде обнажаются жанровые черты марша. В кульминационной зоне появляется напористое движение ровными четвертями, в высоких регистрах пронзительно звучит мотив в пунктирном ритме, ритмическое движение стабилизируется, заостряя внимание на четырехдольной пульсации. Таким образом, тема во втором эпизоде уподобляется стихии, подчиняющей себе все вокруг, властной и необузданной.
Третий эпизод (такты 531–638) – наиболее контрастный раздел во всем сочинении, это прекрасное лирическое «отступление», момент романтического воспоминания о счастье, что ненадолго абстрагирует слушателя от образа злых сил. Кардинальная смена комплекса средств выразительности подчеркивает автономность данного эпизода, свидетельствует о значительной перемене. Наиболее важным средством, подчеркивающим контрастность данного раздела, становится гармоническая организация эпизода. Здесь появляются красочные звуковые комплексы, аккорды терцовой структуры, тема получает мягкий консонантный облик, что создает ощущение тонального центра. Выделяется раздел и темброво‑фактурными характеристиками. Музыкальная ткань прозрачна, несколько пуантилистична, композитор не трактует оркестр как тяжелую массу, а, напротив, использует лишь отдельные тембры в качестве звуковых «точек». Примечательно также избегание в данном фрагменте «грузных» басов и громкой динамики. Особую метрическую плавность придают теме переменные размеры (3/4, 4/4, 5/4), что позволяет композитору как бы «растушевать» тактовые границы, создать ощущение дымки, невесомости, мягкости. Лишь к концу раздела, когда музыка вновь обретает тонус активного и напряженного стремления, устанавливается единый размер, чья мерная пульсация сообщает теме двигательную активность.
Четвертый эпизод (такты 686–891) воспринимается как самый острый, драматургически интенсивный. Контрастное сопоставление с предыдущим разделом очерчивается резкими ударами ударных (литавры, тарелки, барабаны) и акцентными аккордами струнных. Прихотливая смена ритмических рисунков вместе с активным метрическим движением обрисовывает жесткое гротескное скерцо, интонации которого вновь отсылают к теме цугцванга. Ее мотивы «рассыпаются» по всему оркестру подобно звуковой мозаике, заостряя внимание слушателей на острых диссонансных линиях, которые, перекрещиваясь и наслаиваясь друг с другом, образуют почти атональный комплекс. Одной из характерных деталей эпизода становятся появляющиеся в начале эпизода у труб и тромбонов хроматические фигурации (такты 687–688), которые задают тон всему разделу своей саркастичностью. Этот мотив передается фортепиано, в партии которого звучит далее вариант темы цугцванга в аккордовом уплотнении с измененным ритмом и более острой артикуляцией.
Все эпизоды ярко контрастируют с темой рефрена, что подчеркивает рондальную структуру композиции. Однако интонационное наполнение первого, второго и четвертого эпизодов, как было показано выше, тесно связано с темой цугцванга. Подобное тематическое развитие говорит о принципиальной важности данной темы в драматургии произведения. Фабула сочинения основана на противопоставлении двух конфликтующих образов. Вся партитура, таким образом, строится как своеобразная интонационная «дуэль». Этот тематический поединок обнажает идею своеобразного поединка двух сил – человеческой и надчеловеческой[8].
Акцентируем значение масштабных изменений, указывающий на данный нарратив. По мере развития тема рефрена, как было указано выше, сильно сокращается (второе и третье рефренные построения содержат всего одно проведение мотивного блока), что также связано с художественной задачей: чем дальше, тем больше проявляется сила цугцванга, а значит, остается меньше возможностей и времени на поиск решения. С тем же связан небольшой размер лирического эпизода – светлые воспоминания мимолетны, они стираются под воздействием злого рока. Само сочинение и его форма, диктующая и подсказывающая ход событий, создают ощущение скрытого сюжета, стройной и логичной внутренней драматургии, основой которой становится «растворение» субъективного под воздействием объективного.
Интонационная фабула[9] способствует осмыслению драматургического плана сочинения, указывая также на особую театральность данного сочинения М. Броннера. Тема поиска и тема цугцванга в первых разделах вступают в острый конфликт, в последующих – видоизменяются. Тема цугцванга, несмотря на отсутствие полного проведения во втором, третьем и четвертом эпизодах, обретает уверенность, ироничность, зловещую окраску, в то время как тема поиска сильно сокращается, как бы «угасает», начинает уступать грозному року в своей жизнеспособности.
Подобное противопоставление двух тем, их последовательное конфликтное сопряжение указывают на симфонический прототип, весомое значение данного жанра в произведении М. Б. Броннера. Намечается в концерте и форма, связанная с его влиянием – слитно-циклическая (поэмная).
Первый блок состоит из первого проведения рефрена, первого эпизода, второго проведения рефрена и второго эпизода. Подобно сонатной форме, здесь экспонируются два контрастных образа – тема поиска (рефрены) и тема цугцванга (эпизоды), что сопоставимо с драматургической ролью первой части в симфонии. Более того, темы подвергаются активной трансформации – мотивы дробятся, складываясь в сложную монтажную структуру. Постоянная переменность оркестровых групп также способствует ощущению разработочности, текучести, что позволяет наделять данные эпизоды функциями экспозиции и разработки сонатной формы[10].
[10] О конфликтной драматургии, выраженной посредством сонатной формы, подробно написано в работе Т. Ю. Черновой [6, 57–58].
Формообразование «Цугцванга» неразрывно связано с его звуковысотной организацией. Благодаря виртуозному использованию автором различных гармонических техник, каждый образ наделен своим музыкальным языком, что противопоставляет их друг другу, разделы соотносятся, как считает сам автор, «тонально-атонально». М. Б. Броннер объясняет: «Здесь выстраиваются некие звуковые комплексы. Также для меня крайне важен принцип неповторяемости. Неповторение звуков – это конструктивный метод создания совершенно другого образного мира. В более острых частях этот принцип ярче и очевиднее проявляет себя».
Наглядно принцип атональности и неповторяемости реализуется в теме рефрена. Рассмотрим детально эти особенности. Нисходящий хроматический ход третьего пласта обнаруживает следующие закономерности. Каждая фраза начинается с ноты, акцентируемой сильной долей, от которой следует краткий нисходящий хроматический ход. Графика этой темы вызывает ряд визуальных ассоциаций: точка – нисхождение, капля – падение. Важную роль, по словам композитора, играет именно такое графическое оформление темы, сопоставимое с живописными ассоциациями.
Начальные тоны-точки образуют условный супермотив (пример 3), выстраиваемый определенный интервальный ряд – восходящий тритон, нисходящие кварта и большая секунда:
Пример 3. М. Броннер. Концерт для оркестра «Цугцванг». Супермотив
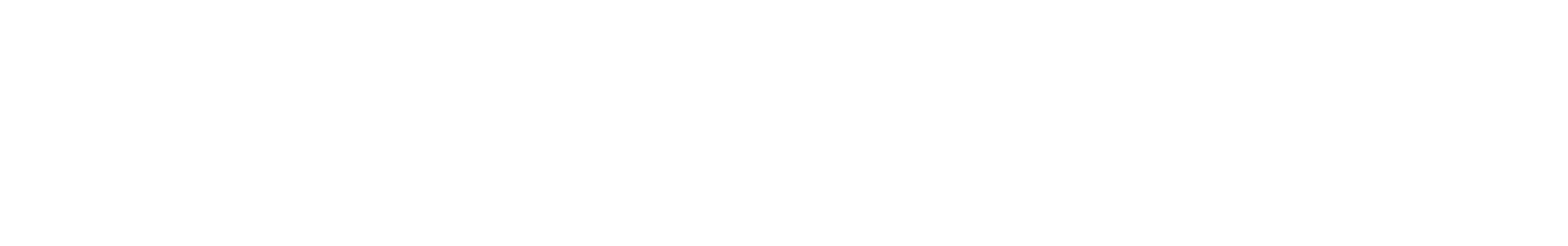
Гармонический облик темы цугцванга также строится по принципу атонального движения, в котором важную роль играет конструктивная идея сопряжения диссонансов. Возникающие консонансные ходы, как ни парадоксально, лишь подчеркивают «неблагозвучность» темы, так как «вплетаются» в диссонансные звучания и не дают привычной мягкости. Кроме того, практически каждое мотивное звено оканчивается нисходящей малой секундой.
Практически все эпизоды (кроме лирического) – это отдельные сценические действия, театральные экспромты, в каждом из которых зловещая сила демонстрирует разные «амплуа». От раздела к разделу она становится все увереннее и могущественнее, постепенно разрастаясь настолько, что полностью заполняет собой музыкальную ткань. Становится практически невозможно распознать тему, она «рассыпается» по оркестру отдельными мотивами и интонациями, которые явно ощущаются человеческим ухом, но не сразу обнаруживаются в партитуре. Первоначальная горизонтальная, квазимелодическая тема модифицируется в тембро‑фактурное построение, сохраняющее основные особенности цугцванга: обилие нисходящих диссонансов с заполнением, «змееподобная» мелодика, ритмическая угловатость.
Тема цугцванга проводится целиком лишь в первом эпизоде. Как уже отмечалось, ее строение определяется совмещением различных мотивных блоков. Первый из них состоит из пяти нот, причем начальные тоны образуют большую септиму, а следующие ее заполняют. Следовательно, выстраивается определенная интервальная формула: нисходящая б.7 – восходящая м.2 – восходящая м.3 – нисходящая м.2. Каждый из последующих блоков является своего рода искаженным «отражением», дополнением предыдущего звена: мотивы сокращаются или удлиняются, меняют направление движения, соотношения между звуками и так далее. Таким образом, главным звуковысотным методом становится здесь принцип комплементарности.
Концерт для оркестра «Цугцванг» – сочинение, отличающееся своей неординарностью, оригинальностью замысла и средств его воплощения. Вбирая в себя признаки различных жанров, представленных в необычной микстовой форме, данный опус изначально ориентирован на смысловую многомерность. В то же время произведение можно считать типичным для авторского стиля, так как оно содержит узнаваемые лексемы композиторского почерка.
Очевидна в опусе и театрализация симфонической партитуры. «Цугцванг» становится не просто концертом, а яркой инструментальной драмой. Интонационная фабула сочинения указывает на данную особенность, последовательно раскрывая идею конфликтного противопоставления тем-антиномий. Их обобщенный характер указывает на конфликт высшего порядка: личное – надличностное, жизнь – смерть.
Драматургическим замысломпродиктована и сложность формообразования. Несмотря на выстраивание в сочинении рондальной формы, становится очевидно, что композитор не ориентируется изначально на какую-либо типовую структуру, а рассматривает форму как процесс, «складывая» ее на основе определенной сюжетной линии. В связи с этим возникают и пересечения с другими принципами организации формы, такими как вариационность и сонатно-циклический.
Одной из ключевых особенностей авторского стиля, проявившихся в концерте, является монтажность на всех уровнях произведения. Здесь обнаруживается переплетение жанровых характеристик, слияние признаков различных музыкальных форм, комбинирование отдельных звуковысотных и ритмических элементов. Ярко проступает данный принцип в фактурной организации концерта. Автор смело применяет различные типы фактур и средства оркестрового письма, опираясь на образно-драматургическую идею. Также возрастает роль тембровой окраски: благодаря «перекрашиванию» музыкального материала различными звуковыми качествами достигается театральный эффект трансформации тем-персонажей, их развития. Монтаж, таким образом, не просто является способом построения музыкальной ткани, но и становится важным аспектом композиторского мышления М. Б. Броннера.
Концерт становится примером обновленного понимания мелодики. Текучесть, непрерывность отходят на второй план, внимание смещается на «высвечивание» отдельных ярких интонаций. Композитор отходит от идеи развития единого тематического звена и мыслит отдельными мотивными блоками, в том числе применяя этот метод и при сочинении лирических эпизодов партитуры.
Проявилась здесь и метроритмическая свобода, свойственная музыкальному языку М. Броннера. В «Цугцванге» встречаются сложные ритмические комбинации, переменные размеры, а также излюбленная композитором утрированная акцентная периодичность. Большую роль играет ударная группа, в частности, шумовые инструменты, гиперболизированное звучание которых подчеркивает метрическую сетку.
Звуковысотность подчинена конструктивной идее, раскрывающейся как на синтаксическом уровне, так и на уровне формы. Темы концерта развиваются по принципу скрепления отдельных мотивов, где, помимо гармонических средств, как уже говорилось, весьма значима темброво-фактурная вариантность.
«Цугцванг», таким образом, становится одним из репрезентативных для композиторского стиля М. Броннера произведений. Сочетая в себе практически все черты его узнаваемого авторского почерка, партитура является показательным примером удивительного синтеза инструментальной музыки и театрального мышления. Это не просто концерт для оркестра, а многогранное художественное высказывание, в котором композитор демонстрирует свое мастерство в воплощении сложных философско-этических идей. Данное произведение становится важной вехой в творчестве М. Броннера, подчеркивая уникальность авторского подхода к композиции и его способность превращать абстрактные концепции в живое звуковое полотно.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
2. Завьялов Е. Н. Развитие жанра концерта для оркестра в отечественной музыке с начала 1960-х годов // Музыкальный жанр и стиль. 2021. № 1. С. 85–94.
3. Густав Малер: Письма, воспоминания. / Сост. И. Барсова, пер. с нем. С. Ошеров. М.: Музыка, 1968. 608 с.
4. Завьялов Е. Н., Жоссан Н. Ю. Концерт для оркестра в контексте отечественной духовной музыки на рубеже XX–XXI веков // Музыкальный жанр и стиль. 2023. № 2. С. 85–94.
5. Барсова И. А. Симфонии Густава Малера. М.: Сов. композитор, 1975. 496 с.
6. Чернова Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке. М.: Музыка, 1984. 144 с.
Получено: 01.09.2025
Принято к публикации: 15.09.2025
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
А. А. Королева – аспирант первого года обучения, кафедра «Музыковедение и композиция» ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Выпуск 3 (8) Сентябрь 2025
Страницы номера
54-73